Истоки экзистенциалистского движения обычно связывают с Кьеркегором, чьи основные философские работы появились в период с 1838-го по 1855-й год. Поскольку они были написаны на датском языке, они не сразу попали в широкое обращение. Различные подборки Бартольда публиковались в Германии с 1873-го года до конца 19-го века, но первый полный немецкий перевод его работ появился только между 1909-м и 1923-м годами, а англо-американские переводы начались только в 1936-м году. Однако нет никаких оснований считать Кьеркегора основателем экзистенциализма. Правда, он придал этому движению специфически христианский оттенок, но всё основные идеи уже присутствовали в философии Шеллинга, и следует помнить, что Кьеркегор, как бы сильно он ни критиковал Шеллинга, тем не менее сначала испытал глубокое влияние этого великого немецкого философа, а в 1841-м году совершил специальное путешествие в Берлин, чтобы посидеть у его ног. Кстати, задолго до Кьеркегора наш Кольридж читал ранние работы Шеллинга, и мы находим в менее известных работах Кольриджа значительную часть экзистенциалистских мыслей. Как я уже отмечал в другом месте, (1) все основные понятия современного экзистенциализма — ангст, бездна, непосредственность, приоритет существования перед сущностью — можно найти у Кольриджа, и большинство из этих понятий Кольридж, несомненно, получил от Шеллинга.
Для моей цели необходимо дать общее описание экзистенциалистской позиции в философии, но я не профессиональный философ и не собираюсь использовать техническую терминологию, в которую часто облекаются вполне очевидные факты или идеи. Кажется, что философ, называющий себя экзистенциалистом, начинает с острого приступа самосознания, или обращённости вовнутрь (inwardness), как он предпочитает это называть. Он внезапно осознает свою отдельную одинокую индивидуальность и противопоставляет её не только остальным представителям человеческого рода, но и всему мирозданию, как оно раскрывается в ходе научных исследований. Вот он, ничтожный и незначительный кусочек протоплазмы на фоне бесконечных масштабов Вселенной. Правда, современным физикам, возможно, удалось доказать, что и сама Вселенная конечна, но это только усугубляет ситуацию, поскольку теперь Вселенная сжимается до ничтожности и противопоставляется ещё более загадочной концепции Небытия. Это не просто нечто бесконечное, это нечто немыслимое для человека. Хайдеггер посвятил одно из своих самых интригующих эссе попытке — не определить неопределимое — но определить отрицание Бытия, Не-бытия или Ничто.
Итак, перед нами Маленький человек, который смотрит в бездну и чувствует себя — поскольку он всё ещё сохраняет бесконечную способность к ощущениям — не только очень маленьким, но и испуганным. Это чувство — изначальный «Angst», ужас или страдание, и если вы не ощущаете ангст, вы не можете быть экзистенциалистом. Сейчас я собираюсь предложить, что мы не обязательно должны чувствовать ангст, но все экзистенциалисты его чувствуют, и их философия начинается с этого факта. Есть две фундаментальные реакции на него: мы можем сказать, что осознание ничтожности человека во Вселенной может быть встречено своего рода отчаянным вызовом. Пусть я ничтожен, а моя жизнь — бесполезные мытарства, но, по крайней мере, я могу окинуть взглядом всё это зрелище и доказать независимость своего разума, своего сознания. Жизнь, очевидно, не имеет смысла, но давайте притворимся, что он есть. Это притворство, во всяком случае, даст человеку чувство ответственности: он сможет доказать, что он сам себе закон, и даже договориться со своими товарищами об определённых рамках поведения, которые в данной ситуации все они должны принять. Он свободен это сделать, и его свобода, таким образом, перерастает в чувство ответственности. Такова доктрина Сартра, но он не очень ясно объясняет, что произойдёт, если он не сможет убедить своих товарищей договориться об определённых правилах поведения или определённых ценностях. Я думаю, он сказал бы, что определённое согласие обеспечивается нашим человеческим положением, что, будучи тем, что мы есть, когда наша экзистенциальная ситуация становится ясной, мы обязаны действовать свободно определенным образом. Наша необходимость становится нашей свободой. Но я не уверен в этом. Герои романов и пьес Сартра, как правило, поступают абсурдно или в соответствии со своими психологическими склонностями и не несут заметной ответственности перед каким-либо идеалом социального прогресса.
Этот аспект экзистенциализма, как мне кажется, имеет много общего с философией «как если бы» Вайхингера: мы не можем быть уверены, что свободны или ответственны за свою судьбу, но мы ведем себя так, как если бы это было так. И естественным образом экзистенциализм устанавливает связь с прагматизмом — знаменательно, что многие литературные увлечения Сартра были американскими, а Америка — родина прагматизма. Но, с точки зрения Сартра, прагматизм любого рода слишком поверхностен: он основан на повседневных процедурах, своего рода балансе успехов и неудач, в то время как экзистенциалист должен всегда держать в поле зрения ужасающую природу нашего человеческого затруднительного положения.
Ещё более глубоко экзистенциалисты возражают против прагматизма и других подобных практических философий (включая, как мы увидим далее, марксизм) на том основании, что они материалистичны. Любая форма материализма, ставящая человеческие ценности в зависимость от экономических или социальных условий, лишает человека свободы. Свобода — это способность подняться над своим материальным окружением. «Возможность отстраниться от ситуации, чтобы занять в ней определённую точку зрения (говорит Сартр), — это именно то, что мы называем свободой. Никакой материализм не сможет объяснить этот выход за пределы ситуации, за которым следует возвращение к ней. Цепь причин и следствий вполне может побудить меня к действию или отношению, которое само по себе будет следствием и изменит состояние мира: оно не может заставить меня вернуться к моей ситуации, чтобы осознать её во всей полноте». (2)
Это обращение назад к ситуации — это метафизический акт, в нашем окружении нет ничего, что могло бы заставить нас принять метафизическое отношение. Это процесс возвышения над окружающей средой, взгляд на вещи, на всю природу с внешней по отношению к природе точки зрения. Марксист может возразить, что это всё вздор — нет никакой возможности поднять себя за пределы природы за наши собственные косы. Но в этом и заключается суть вопроса. Экзистенциалист, как мне кажется, обязан утверждать, что человечество развило в себе особую способность, сознание или интеллектуальное самосознание, которое позволяет ему проделать именно этот трюк. В этом вопросе я склонен быть на стороне экзистенциалиста. Высшие формы животного сознания связаны с этим импульсом к отстранению — отстранению от стада, от общества, от любой ситуации, включая положение человека по отношению к Вселенной. Можно с уверенностью утверждать, что именно такая способность к отстранению является причиной наших социальных болезней, нашей разобщённости и агрессивности; но следует также признать, что наши крупные достижения в научной мысли также обусловлены развитием и использованием этой способности. Но есть опасность, присущая отстранённости, которую экзистенциалист полностью осознает. Это — опасность идеализма. В отрешённости мы разрабатываем философию, социальную утопию, которая не имеет никакого отношения к условиям, в которых мы живём в данный момент. Таким образом, экзистенциалист утверждает, что человек, испытав чувство отстранённости или свободы, должен вернуться в социальный контекст с намерением изменить эти условия. Отсюда доктрина вовлеченности. Снова процитируем Сартра: «Революционный человек должен быть условным существом, неоправданным, но свободным, полностью погруженным в угнетающее его общество, но способным выйти за пределы этого общества своими усилиями по его изменению. Идеализм мистифицирует его, поскольку связывает его правами и ценностями, которые уже даны; он скрывает от него его способность разрабатывать собственные дороги. Но и материализм мистифицирует его, лишая свободы. Революционная философия должна быть философией трансцендентности». (3)
Прежде чем рассмотреть эту доктрину с точки зрения марксизма и анархизма, давайте на мгновение остановимся, чтобы рассмотреть другую типичную реакцию на ангст — религиозную реакцию, поскольку это идеалистическая установка, против которой также возражает Сартр. Я не уверен, что смогу правильно описать эту установку, но в том виде, в каком она сформировалась в мышлении Шеллинга, Кольриджа и Кьеркегора (а ещё раньше — у святого Августина), она выглядит следующим образом: мы имеем экзистенциальную позицию — человек сталкивается с бездной небытия. Оно просто не имеет смысла. Почему я здесь? Почему вся эта сложная структура, частью которой я являюсь, осознает себя? Это полная бессмыслица, но простая гипотеза придаст всему этому смысл: предварительное существование Бога. Трансцендентный творец, ответственный за всю фантасмагорию бытия, ответственный и за меня, и за моё сознание — как все логично! Возможно, останутся какие-то сложные загвоздки — например, проблемы зла и боли, — но немного изобретательности и они быстро преодолеваются. Мы не можем ожидать, что даже небесная колесница будет работать без небольшого трения. И вот мы получаем, безмерно развитый, мистический христианский экзистенциализм Кьеркегора и Габриэля Марселя. Я не хочу сказать, что такова точка зрения среднего христианина или среднего теиста любого рода; они обычно полагаются на откровение, на священные писания и экстатическое озарение; но в той мере, в какой религиозная точка зрения конкурирует на философском поле, она не зависит от этих особых мольб и опирается на логические аргументы. Это другая философия «как если бы»; её можно назвать философией «только так»: только так наше существование имеет смысл. Смысл, в таком случае, идентичен тому, что эти философы называют сущностью, и Сартр, если ещё не Хайдеггер до него, сказал, что фундаментальный тезис экзистенциализма состоит в том, что существование предшествует сущности. Профессор Айер атаковал этот тезис на логических основаниях. (4) «Сущность» имеет запутанную историю как философский термин. Обычно он означает то, что мы можем утверждать о чем-либо помимо самого факта его существования (т.е. subsistence), возможности, присущие какой-то вещи: платоновскую идею. Сантаяна, чьё использование этого термина несколько своеобразно, но тем не менее ценно тем, что его может признать заклятый материалист, определяет разницу между существованием и сущностью как разницу между тем, что всегда тождественно самому себе и неизменно, и тем, что, напротив, изменчиво и неопределимо. Это согласуется с понятием Сартра о случайности; именно сущность допускает возможность изменений в мире. У Сантаяны есть небольшой миф, описывающий эти отношения:
«Становление, можно сказать, в яростной борьбе за порождение неизвестно чего породило Различие; и Различие, родившись, поразило своего родителя, разросшись в великий рой Различий, пока не проявило все возможные Различия, то есть пока не проявило всё царство сущности. До тех пор Становление, будучи резвым, смелым и похотливым демоном, считало себя главным петухом в курятнике; но теперь, как ни больно было ему видеть какую бы то ни было истину, он не мог не подозревать, что живёт и движется лишь по неведению, не будучи в состоянии ни сохранить ограничения одного момента, ни избежать ограничений следующего, подобно танцующему дервишу, который должен оторвать одну ногу, потом другую, потом снова первую от раскалённых углей». (5)
Это так, к слову, но Сантаяна яснее, чем любой другой известный мне философ, показывает, что именно своей идеальностью, своим небытием, сущность внутренне связана с существованием; она не является простым продолжением или частью того, что существует. Я не думаю, что профессор Айер оценивает этот момент, но я не хотел бы с ним спорить, потому что это не мой момент, и не тот, которому я придаю особое значение. Но это объясняет, почему Сартр может поддерживать такое понятие, как свобода, не будучи приверженцем такого идеализма, который включает в себя целую систему абсолютных ценностей. Я не думаю, что философия Сартра сильно изменится, если слово «свобода» мы заменим словом «поток». То, что мы постигаем в природе вещей, подвержено постоянным изменениям, и эти изменения присущи не столько самой вещи — материи, — сколько нашему сознанию или восприятию этих сущностей. Согласно этой точке зрения, сущности не меняются, не существуют в пространстве или времени. Они просто есть, когда мы их воспринимаем. Они принадлежат объекту, но могут существовать и без его материального присутствия, подобно ухмылке Чеширского кота в «Алисе в стране чудес».
Ошибка Руссо заключалась в том, что он рассматривал свободу как сущность, как вечно существующую ценность в человеке. В этом смысле человек не «рождается свободным». Он рождается простым комочком плоти и костей, со свободой как одной из возможностей своего существования. На человеке лежит ответственность за создание условий для свободы. Может показаться, что все это представляет лишь теоретический интерес, но, напротив, именно здесь экзистенциализм вносит свой величайший вклад в философию. Он устраняет все системы идеализма, все теории жизни или бытия, которые подчиняют человека идее, некой абстракции. Он также устраняет все системы материализма, подчиняющие человека действию физических и экономических законов. Он утверждает, что человек — это реальность, даже не человек в абстракции, а человеческая личность, вы и я; и что всё остальное — свобода, любовь, разум, Бог — это случайность, зависящая от воли индивида. В этом отношении экзистенциализм имеет много общего с эгоизмом Макса Штирнера. Такой экзистенциалист, как Сартр, отличается от Штирнера тем, что готов вовлечь Я в достижение определённых сверхэгоистических или идеалистических целей. У него меньше общего с диалектическим материализмом, который требует подчинить личную свободу политической необходимости; еще меньше с католицизмом, который требует подчинить личную свободу Богу. Он ищет союза с воинствующим гуманизмом, который политическими и культурными средствами гарантирует его личную свободу.
Позвольте мне на этом этапе спора признать, что я нахожу возможным принять некоторые фундаментальные принципы экзистенциализма Сартра. Например, я считаю, что вся философия должна начинаться с субъективности. Существуют определённые конкретные основания опыта — так называемые научные факты, — которым мы можем придать экзистенциальную реальность, но хотя философия может использовать их в качестве отправной точки, сами по себе они не предполагают принятия определённой философии. Если бы это было так, то все учёные исповедовали бы одну и ту же философию, а это далеко не так. Философия начинается тогда, когда мы отвлекаемся от экзистенциальных фактов и барахтаемся в царстве сущностей. В этой сфере наши субъективные способности — интуиция, эстетическая чувствительность, эсэмпластическая сила (как называл её Кольридж) подведения многого под единое — со всеми этими личными и неопределёнными средствами мы начинаем строить философию. Мы по-прежнему должны руководствоваться практическим разумом, научным методом и логикой, но это методы, а не содержание нашего дискурса (о чем часто забывают логические позитивисты). В силу этой субъективной активности мы сводим иррациональные сущности к некоему порядку, порядку тщательно выстроенного мифа или сказки (как в религии) или порядку последовательной утопии (как в политическом идеализме). (6)
Рационалист и материалист могут возразить, что мы просто пытаемся свести всё к терминам нашего романтического идеализма, но мы можем повернуться к нему лицом и доказать, что его философская структура, несмотря на псевдонаучный жаргон, на котором она выражается, ничем не отличается. Это структура разума, и она идеалистична в том смысле, что зависит от веры — веры в то, что завтра будет так же, как сегодня, веры в то, что люди будут вести себя так, как он может просчитать заранее, веры в сам разум, который, в конце концов, является лишь средством, с помощью которого учёный убеждает себя, что он понимает существование. Научный метод может быть одним и приводить к отдельно установленным истинам, между которыми может быть лишь относительная прерывистость, хаос распылённых фактов; или же научный метод может быть чем-то совершенно иным и двигаться к некоему идеалу гармонии, цельности и порядка. Но такая гармония (идеал Маркса не меньше, чем Платона) — это субъективное восприятие. Коммунист в этом отношении ничем не отличается от роялиста или анархиста; все мы идеалисты, и я не вижу, как мы можем быть другими, если мы верим, что человек — это то, что он сам из себя делает. Разница между теми, кто считает, что некий идеал должен предопределять существование человека (такова официальная коммунистическая линия), и теми, кто считает (как экзистенциалисты и анархисты), что личность человека, то есть его собственная субъективность, является существующей реальностью, а идеал — это сущность, на которую он себя проецирует, которую он надеется реализовать в будущем, не путём рационального планирования, а путём внутреннего субъективного развития. Сущность может быть постигнута только на той конкретной стадии существования, на которой мы с вами находимся в каждый конкретный момент. Отсюда глупость всех так называемых «чертежей будущего»; будущее сделает свои собственные зарисовки, и они не обязательно будут такими, какими мы их себе представляем.
У большинства людей всё это вызывает чувство неуверенности, как будто они плывут по незнакомому морю без карты, возможно, даже без компаса. Но в этом, как заметил Сартр, и заключается вся суть. Он цитирует Достоевского: «Если Бога нет, всё позволено». «На самом деле, — признает Сартр, — всё дозволено, если Бога нет, и, следовательно, человек дрейфует, потому что не может найти ни в себе, ни вне себя ничего, за что можно было бы ухватиться. Поначалу он не имеет оправданий. Если существование предшествует сущности, то нельзя объяснять вещи в терминах заданной и фиксированной человеческой природы; другими словами, нет никакого детерминизма, человек свободен, человек — это свобода. С другой стороны, если Бога нет, то мы не найдём под рукой готовых ценностей или формул, которые оправдывали бы наше поведение. Таким образом, ни перед нами, ни за нами мы не можем найти в сфере ценностей оправдание или оправдание. Мы одни, без оправдания». (7) Именно это имеет в виду Сартр, когда говорит, что человек обречён быть свободным. В моей метафоре он обречён на дрейф, и ему приходится изобретать инструменты, с помощью которых он может держать курс; изобретя эти инструменты, он должен отправиться в плавание за открытиями. Он не имеет ни малейшего представления о том, куда попадёт, где приземлится. Его жизнь, его существование — это плавание, его реальность — это тот факт, что он движется в направлении, которое он сам свободно определил.
На данный момент я хочу оставить в стороне проблему согласия; ведь, в конце концов, мы не можем передвигаться по океану в отдельных лодках; мы — пассажиры кораблей, на которых находится множество других людей, и мы должны согласовать нашу свободу передвижения с их свободой. Мы будем в лучшем положении, чтобы рассмотреть эту проблему, когда столкнёмся с экзистенциализмом и марксизмом.
Учитывая связь французских писателей-экзистенциалистов с движением сопротивления во время оккупации, трудновато следовать обычной практике и называть экзистенциализм философией фашизма, поэтому, похоже, было решено проклясть его как троцкизм. Трудно представить себе меньшего экзистенциалиста, чем Троцкий, поэтому так же трудно понять, как экзистенциалист может быть троцкистом: это просто, конечно, удобный термин для злоупотребления. Но анализ экзистенциализма, проведённый Георгом Лукачем, которого я считаю самым умным марксистским критиком нашего времени, более серьёзен, чем можно было бы предположить с помощью такой логики. (8) Конечно, сравнительно просто установить связь между фашистским империализмом и философией Хайдеггера — эта связь была исторической и фактической во времена нацистского режима. Но такая связь могла быть и случайной, ведь философу трудно устоять перед лестью, которой его, как кажется, готово одарить тоталитарное государство. Для философских целей мы должны искать какую-то более фундаментальную связь, и она, несомненно, кроется в нигилизме, который является философской болезнью нашего времени. Нигилизм — это всего лишь то состояние отчаяния, которое я уже описал, отчаяния, которое овладевает человеком всякий раз, когда он заглядывает в бездну небытия и осознает собственную ничтожность. Это состояние, на которое можно реагировать по-разному: можно, конечно, подтвердить его фундаментальную реальность; можно остаться нигилистом и отказаться верить во что-либо, кроме собственных эгоистических интересов. Можно реагировать, как Достоевский, и стать пессимистичным христианином, а можно, как нацисты, и стать реалистичным политиком власти. Хайдеггер (и Сартр, когда придёт его черёд) реагирует гораздо более метафизически, он строит сложную пожарную лестницу, спасательный аппарат, с помощью которого человек может спастись от нигилизма, хотя и не отрицает, что он по-прежнему остаётся фундаментальной природой реальности. Именно этого и не может принять марксист.
Начнём с того, чем служит этот пессимистический нигилизм, кроме как отражением банкротства капиталистической системы? У него нет реальности. Небытие, о котором пишут Хайдеггер и Сартр, — это субъективное состояние души. Лукач называет его типичным фетишем буржуазной психологии, мифом, созданным обречённым на смерть обществом. Его существование возможно только благодаря отказу от разума, и это характерная тенденция современной философии, к которой относятся не только Хайдеггер и Гуссерль, но также Дильтей и Бергсон.
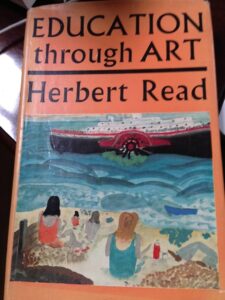 Марксист действительно более экзистенциалист, чем сами экзистенциалисты. В теории (но не всегда на практике) он не признает существования сущностей. Есть только одна реальность, и она историческая, временная. Человек — это животное, эволюционировавшее в историческом времени. На определённом этапе своей эволюции он развил способность к сознанию, но в этом нет ничего загадочного, и его природа и объем, несомненно, ещё не раз изменятся в будущем. Человек, — говорит Лукач, — создал себя своим трудом. Когда человек окончательно завершит свою предысторию и установит социализм в полной и определённой форме, тогда мы увидим коренное преобразование природы человека… Создавая, преобразуя себя исторически, человек естественно (également) привязан к миру определёнными постоянными факторами (труд и определённые фиксированные отношения, вытекающие из него). Но это ни в коем случае не означает компромисса между такой объективной диалектикой истории и вневременной онтологией субъективности. Между этими двумя концепциями невозможен компромисс: необходимо сделать выбор. Невозможен и компромисс между экзистенциалистской концепцией свободы и историческим и диалектическим единством свободы и необходимости, установленным марксизмом. (9) Лукач, кажется, прежде всего стремится исключить возможность третьего пути в философии и политике. Есть идеализм и есть диалектический материализм; если вы не диалектический материалист, вы должны быть идеалистом в некотором роде; если вы диалектический материалист, вы должны быть марксистом. Я думаю, что это игра слов. Существует фундаментальная оппозиция между чисто механистическим материализмом и всеми формами идеализма, но Лукач, как и большинство современных марксистов, очень осторожно отмежёвывается от механистической школы. Но как только материализм становится диалектическим, он ассоциирует себя с противоречиями, а противоречия материи — это сущности. Вы не можете быть диалектиком ни в мышлении, ни в чем-либо другом, если вы не признаете царство сущности в противовес царству материи. Но как только вы признаете царство сущностей, вы даёте существенное существование состоянию субъективности, ибо только в состоянии субъективности мы осознаем сущности. Если бы человек создал себя только своим трудом, он, подобно муравью, остался бы в мире ощущений и инстинктов. Развитие сознания, которое я согласен вместе с марксистами рассматривать как экзистенциальное, историческое событие, означает, что в диалектический процесс вступили субъективные факторы, сущности; и только этот факт может объяснить эволюцию человека до его нынешнего морального и интеллектуального уровня. И, конечно, совершенно нелепо ограничивать эволюционные факторы только трудом. Борьба за существование, особенно в неблагоприятных климатических условиях, всегда была мрачным занятием. Но высшие способности человека, такие как этическое сознание, вероятно, развивались в умеренных зонах Египта и Средиземноморья, и именно игра, а не работа, позволила человеку развить свои высшие способности, которые мы подразумеваем под словом «культура» (всем, кто сомневается в этом, стоит прочитать «Homo Ludens» Хейзинги). (10) Нет ни одного аспекта культуры — языка, войны, науки, искусства или философии, даже религии, — в эволюцию которого игра не вошла бы как творческий фактор. Игра — это свобода, это бескорыстие, и только в силу бескорыстной свободной деятельности человек создал свои культурные ценности. Возможно, что именно теория «всё — работа, не до игр» сделала марксистов такими занудами.
Марксист действительно более экзистенциалист, чем сами экзистенциалисты. В теории (но не всегда на практике) он не признает существования сущностей. Есть только одна реальность, и она историческая, временная. Человек — это животное, эволюционировавшее в историческом времени. На определённом этапе своей эволюции он развил способность к сознанию, но в этом нет ничего загадочного, и его природа и объем, несомненно, ещё не раз изменятся в будущем. Человек, — говорит Лукач, — создал себя своим трудом. Когда человек окончательно завершит свою предысторию и установит социализм в полной и определённой форме, тогда мы увидим коренное преобразование природы человека… Создавая, преобразуя себя исторически, человек естественно (également) привязан к миру определёнными постоянными факторами (труд и определённые фиксированные отношения, вытекающие из него). Но это ни в коем случае не означает компромисса между такой объективной диалектикой истории и вневременной онтологией субъективности. Между этими двумя концепциями невозможен компромисс: необходимо сделать выбор. Невозможен и компромисс между экзистенциалистской концепцией свободы и историческим и диалектическим единством свободы и необходимости, установленным марксизмом. (9) Лукач, кажется, прежде всего стремится исключить возможность третьего пути в философии и политике. Есть идеализм и есть диалектический материализм; если вы не диалектический материалист, вы должны быть идеалистом в некотором роде; если вы диалектический материалист, вы должны быть марксистом. Я думаю, что это игра слов. Существует фундаментальная оппозиция между чисто механистическим материализмом и всеми формами идеализма, но Лукач, как и большинство современных марксистов, очень осторожно отмежёвывается от механистической школы. Но как только материализм становится диалектическим, он ассоциирует себя с противоречиями, а противоречия материи — это сущности. Вы не можете быть диалектиком ни в мышлении, ни в чем-либо другом, если вы не признаете царство сущности в противовес царству материи. Но как только вы признаете царство сущностей, вы даёте существенное существование состоянию субъективности, ибо только в состоянии субъективности мы осознаем сущности. Если бы человек создал себя только своим трудом, он, подобно муравью, остался бы в мире ощущений и инстинктов. Развитие сознания, которое я согласен вместе с марксистами рассматривать как экзистенциальное, историческое событие, означает, что в диалектический процесс вступили субъективные факторы, сущности; и только этот факт может объяснить эволюцию человека до его нынешнего морального и интеллектуального уровня. И, конечно, совершенно нелепо ограничивать эволюционные факторы только трудом. Борьба за существование, особенно в неблагоприятных климатических условиях, всегда была мрачным занятием. Но высшие способности человека, такие как этическое сознание, вероятно, развивались в умеренных зонах Египта и Средиземноморья, и именно игра, а не работа, позволила человеку развить свои высшие способности, которые мы подразумеваем под словом «культура» (всем, кто сомневается в этом, стоит прочитать «Homo Ludens» Хейзинги). (10) Нет ни одного аспекта культуры — языка, войны, науки, искусства или философии, даже религии, — в эволюцию которого игра не вошла бы как творческий фактор. Игра — это свобода, это бескорыстие, и только в силу бескорыстной свободной деятельности человек создал свои культурные ценности. Возможно, что именно теория «всё — работа, не до игр» сделала марксистов такими занудами.
Животное в игре — а животные играют, и человек лишь животное, научившееся играть более изощренно, — животное в игре не очень-то осознает ангст, экзистенциалистскую бездну небытия. Экзистенциалист и марксист могут возразить, что только такой презренный персонаж, как Нерон, играет на скрипке, пока горит Рим, но, учитывая развращённость Рима того времени, Нерону, возможно, есть что сказать об игривом бескорыстии. Нерон, однако, действительно не имеет отношения к делу, которое заключается в актуальности ангст. Для марксиста вся эта история — ангст, кораблекрушение, небытие — всего лишь очередной миф, как миф о конце света или Страшном суде. Но точка зрения, которую я хочу сейчас выдвинуть и рекомендовать как истинную, признает факты, на которых экзистенциалист основывает свой ангст, но делает из них другой вывод. Общепринятого имени для этого другого человека, стоящего рядом с экзистенциалистом на краю пропасти, не существует, но он имеет некоторое сходство с Аристотелем. Он осматривает сцену, маленькое пятнышко протоплазмы, которым является человек, вселенную, конечную или бесконечную, в которой он оказался, и, если он считает вселенную конечной, страшную пропасть небытия за её пределами. Его чувства — это чувства глубокого интереса, волнения, удивления. Он видит огонь и воздух, землю и воду, элементарные качества, рождающие всевозможные противоположности: горячее-холодное, сухое-влажное, тяжелое-легкое, твердое-мягкое, вязкое-хрупкое, грубое-гладкое, грубое-тонкое — видит, как они сочетаются и взаимодействуют, порождая миры и жизнь в этих мирах, и теряется в изумлении. Его самое большое удивление связано с тем, что он, человек, стоит на вершине этой сложной структуры, венец её совершенства, в одиночестве осознавая согласованность Целого.
В качестве противоядия от экзистенциалистов я рекомендую прочитать не только Аристотеля, но и Лукреция — особенно те отрывки, где он отвлекается от описания природы вещей, чтобы восхвалить Эпикура, отца своей философии, открывателя истины, который разобрал стены мира, чтобы мы могли видеть все вещи, движущиеся сквозь пустоту: «Нигде не видны покои Ахерона, и земля не препятствует описанию всех вещей, которые движутся под нами через пустоту под нашими ногами. При виде этих вещей меня охватывает какое-то божественное удовольствие и трепет, когда я думаю, что благодаря твоей силе природа становится такой ясной и очевидной, обнажённой со всех сторон». То, что Лукреций называл «страхом Ахерона… омрачающим все чернотой смерти и не позволяющим ни одному удовольствию быть чистым и беспримесным», – это наш знакомый богемный ангст, и великая поэма Лукреция была написана, чтобы его развеять. «Ибо часто до сих пор, — говорит он, — люди предавали родину и любимых родителей, стремясь избежать царства Ахерона. Ибо как дети трепещут и боятся всего в слепящей темноте, так и мы порой боимся при свете того, чего бояться не стоит ничуть больше, чем того, от чего дети содрогаются в темноте и воображают, что это сбудется. Итак, этот ужас разума, эта тьма должны быть рассеяны не лучами солнца и сверкающими валами дня, а внешним видом и внутренним законом природы».
Аристотель и Лукреций — не исключение; на протяжении всей истории философии существует традиция, которая, хотя и берет своё начало в таком же полном взгляде на природу вещей, какой затрагивают экзистенциалисты, основана на совершенно противоположной реакции — реакции любопытства, а не кораблекрушения. Нельзя сказать, что эта позитивная реакция (или резонанс, как назвал её Вольтерек) (11) более неоправданна, менее глубока, чем негативная реакция экзистенциалиста. Речь идёт о том, что Сантаяна назвал «животной верой», «атеоретической силой, которая, оторванная от данных опыта, конструирует, гарантирует и расширяет мир человека» — или, как выражается Санатана, «жизнь разума». (12)
Вера в животных, вера в природу — не думаю, что марксисту понравится слово «вера» — он боится быть приверженным какому-то богу. Я согласен, что лучше избегать слова «Бог». Как сказал ещё Сантаяна: «Если, называя природу Богом, или делом Божьим, или языком, на котором Бог говорит с нами, не подразумевается ничего, кроме того, что природа прекрасна, непостижима, жива, является продолжением нашего бытия, санкцией морали и раздатчиком счастья и несчастья, то не может быть возражений против таких альтернативных терминов в устах поэтов; но я думаю, что философ должен избегать двусмысленности, которую часто создаёт слишком поэтичный термин. Слово “природа” достаточно поэтично: оно в достаточной мере отражает порождающую и контролирующую функцию, бесконечную жизненную силу и изменчивый порядок мира, в котором я живу». (13)
Философия, которую я пытаюсь представить, — философия, основанная на позитивной реакции на космический опыт, — вполне может быть названа гуманизмом — это утверждение значимости нашей человеческой судьбы. Гуманизм — это термин, который принял Сартр и которым не пренебрегает даже такой непримиримый марксист, как Лукач, — он называет ленинскую теорию познания воинствующим гуманизмом (un humanisme combatif), но он уточняет это принятие термина, указывая, что это понятие неотделимо от практического действия и работы. Это приводит меня к позиции анархистов, которая только сейчас, в конце этого длинного исследования, может быть раскрыта во всей своей логической ясности. Анархист, как и марксист — или, лучше сказать, ленинец, — отвергает философский нигилизм экзистенциалистов. Он просто не чувствует того ангст, того страшного кораблекрушения на границах вселенной, на которое экзистенциалист реагирует с отчаянной энергией. Он согласен с марксистом, что это всего лишь современный миф. Он втягивает свои метафизические рога и исследует мир природы. Он снова соглашается с ленинистом в том, что жизнь — это диалектический процесс, конец которого — завоевание того, что Лукач называет «la totalite humaine», что, предположительно, означает мир, в котором господствуют человеческие ценности. Но если ленинист представляет себе это завоевание в терминах сознательно направленной борьбы — практического действия и труда, то анархист видит его в терминах взаимопомощи, симбиоза.
Марксизм основан на экономике, анархизм — на биологии. Марксизм все ещё цепляется за устаревший дарвинизм и рассматривает историю и политику как иллюстрации борьбы за существование между социальными классами. Анархизм не отрицает важности таких экономических сил, но настаивает на том, что есть нечто ещё более важное — сознание всепоглощающей человеческой солидарности. «Это, — говорит Кропоткин, —бессознательное признание силы, заимствуемой каждым человеком из практики взаимопомощи; тесная зависимость счастья каждого от счастья всех; чувство справедливости, или равенства, которое заставляет человека рассматривать права каждого другого человека как равные своим собственным. На этом широком и необходимом фундаменте развиваются ещё более высокие нравственные чувства». (14)
Нет необходимости повторять здесь доказательства из биологии, антропологии и социальной истории, которые Кропоткин привёл в поддержку своего тезиса. Даже экзистенциалист Сартр признает, что свобода, которую он желает для себя, подразумевает, что он должен желать свободы для других. Даже марксист говорит о человеческой солидарности, единственным препятствием к которой является капитализм. Но биологии недостаточно: мы — осознающие себя животные, животные, сознающие «бытие», и нам нужна наука о таком сознании: она называется онтологией.
Существует, так сказать, наука о существовании, которую мы называем биологией, и наука о сущности, которую мы называем онтологией. Цель этих двух наук — определить природу процесса жизни и место нашего человеческого существования в этом общем процессе. Есть люди, которые говорят, что это невозможно сделать с помощью инструментов разума; что существует Основа бытия, доступная только сверхрациональной интуиции и не постижимая в терминах рационального мышления. Некоторые считают эту основу бытия трансцендентной, более или менее активно вмешивающейся в развитие существования, в частности в разворачивание нашей человеческой судьбы; другие относятся к ней как к неизвестной величине; третьи, материалисты среди нас, вообще отрицают её существование. Точка зрения, которой придерживаюсь я сам, не является дуалистической; я не признаю двух порядков реальности — известного и неизвестного. Не является моя точка зрения и материалистической в марксистском смысле. Я считаю, говоря словами Вольтерека, что «один поток событий охватывает все, что может быть каким-либо образом пережито как реальное: будь то события материальные или нематериальные, а-биотические, органические, психические, сознательные или бессознательные… Психическая или духовная жизнь человека также является частью этого единого потока событий, который мы называем Природой, хотя и под особыми названиями и с особым содержанием: наука, техника, цивилизация, политика, история и искусство. Организм “человек” производит эти вещи в конечном счёте не иначе, чем птица свою песню и строительство своего дома, дерево своё цветение и плоды. Зарождение сознания, сознательное действие и сознательное мышление — такие же естественные процессы, как реакции, инстинктивные действия и аффекты в животном мире. Биолог не делает различия между физическими событиями (Природа) и нефизическими (Дух): существует лишь один поток событий с как бы видимой (материальной) поверхностью и текучей (нематериальной) глубиной, и это различие между видимой поверхностью и текучей глубиной для меня — то же самое различие, которое Сантаяна проводит между материальным существованием и текучей сущностью. Сантаяна также говорит, что сущность не является продолжением или частью того, что существует, но что она тесно переплетена с существованием; это означает, я думаю, что существует гибкое разделение на внутреннее и внешнее, но нет слияния через это разделение. Всегда существует разделение между газом внутри воздушного шара и атмосферой снаружи — они не могут смешиваться, но они тесно связаны между собой как давление, как удельная сила тяжести, и реагируют в соответствии друг с другом. Сущность и существование переплетаются таким образом на протяжении всей эволюции жизни. Важно подчеркнуть, что во всем этом процессе жизни присутствует свобода. На присутствие этого элемента указывает сам процесс эволюции, который представляет собой восходящий процесс, ведущий от элементарных физических состояний космических туманностей к биотической дифференциации, затем к простой и все более дифференцированной жизни, и, наконец, к духовным событиям, духовному творчеству и духовной свободе». (15) На протяжении всего процесса эволюции существовала способность переходить на новые уровни существования, создавать новизну. Свобода не является сущностью, доступной только человеческой чувствительности; она зародышево действует во всех живых существах как спонтанность и автопластичность. Эта «биологическая» свобода и то, что с ней происходит, — (я снова цитирую Вольтерека) – «имеет онтическое значение, совершенно отличное от «экзистенциального» принуждения к свободному решению. Последняя калечит наше ощущение жизненной силы и, следовательно, прогрессирующую жизнь человека. Свобода спонтанных событий, рождающихся из онтического центра, и свобода формировать вещи таким и таким образом усиливает наше ощущение жизненной силы и делает жизнь более интенсивной. Радость создания ценностей, покорение себя (освобождение себя от эгоизма и его инстинктов), возвышение над миром, наконец, спонтанное создание новых форм, новых норм, новых идей в сознании индивидов — всё это возможный результат позитивной свободы человека».
Свобода, говорит марксист, — это знание необходимости. Свобода, говорит Энгельс, «состоит в контроле над собой и над внешней природой, который основывается на знании естественной необходимости, поэтому она обязательно является продуктом исторического развития». Единственное, что плохо в этом определении, — оно слишком узкое. У птенца, который клюёт скорлупу, нет знаний о естественной необходимости, есть только спонтанный инстинкт, который заставляет его вести себя так, чтобы обеспечить себе свободу. Это важное различие, потому что именно оно лежит в основе марксистской и анархистской философий. С точки зрения анархизма, недостаточно контролировать себя и внешнюю природу, необходимо допускать спонтанное развитие событий. Такие возможности возникают только в открытом обществе; они не могут развиваться в закрытом обществе, как то, которое марксисты создали в России. У Энгельса и Маркса также наблюдается существенная путаница между свободой и свободой: под свободой они понимают политическую свободу, отношения человека к экономическому окружению; свобода — это отношение человека к тотальному жизненному процессу.
Боюсь, что эти наблюдения покажутся вам несколько неактуальными по отношению к практическим проблемам жизни, но это опасное предположение. Марксизм как воинствующая политика во всем современном мире зародился на таких философских различиях и до сих пор непоколебимо стоит на такой философской основе. Мы не можем встретиться с марксизмом и ожидать, что сможем его преодолеть, если у нас нет философии равной силы. Я не верю, что какая-либо из преобладающих идеалистических философских систем будет служить нашей цели, марксисты доказали, что у них есть достаточно мощное оружие, чтобы разрушить такую структуру. Теперь они показали, что, по их мнению, экзистенциализм не представляет опасности для их философской позиции. Я считаю, что возможна и другая философская позиция, которая сохраняет понятие свободы, без которой жизнь становится жестокой. Это материалистическая философия, но это также и идеалистическая философия; философия, которая объединяет существование и сущность в диалектическом противостоянии.
Если, наконец, вы спросите меня, есть ли какая-то необходимая связь между этой философией и анархизмом, я отвечу, что, на мой взгляд, анархизм — единственная политическая теория, которая сочетает в себе революционную и контингентную позицию с философией свободы. Это единственная воинствующая либертарианская доктрина, оставшаяся в мире, и от её распространения зависит прогрессивная эволюция человеческого сознания и самого человечества.
Ссылки:
1) Coleridge as Critic (Faber, 1949), pp. 29-30.
2) Trans. Partisan Review.
3) Trans. Partisan Review.
4) Horizon, July and August 1945. Rationalist Annual, 1948.
5) ‘Apologia pro mente sua,’ The Philosophy of Santayana. Ed. Paul Arthur Schilpp (Northwestern University, Evanston, 1940), p. 526.
6) Марксисты делают вид, что их утопия научна, но это утверждение было бы столь же идеалистическим, как и любая другая проекция наших конструктивных способностей в непредсказуемое будущее; и своими ежедневными изменениями планов марксисты, по факту, признают насколько идеалистической должны были быть их изначальные концепции.
7) L’existentialisme est un humanisme (1946), pp. 36-7.
8) Existentialisme ou marxisme? (Nagel, Paris, 1948).
9) Op. cit., p. 203.
10) Routledge Kegan Paul, London, 1949.
11) Ontologie des Lebendigen (Stuttgart, 1940).
12) Antonio Banfi, ‘Crisis of Contemporary Philosophy,’ The Philosophy of George Santayana (Evanston, 1940), p. 482.
13) Scepticism and Animal Faith (1923), pp. 237-8.
14) Mutual Aid, Introduction.
15) Woltereck, op. cit.
Перевод с английского:
https://theanarchistlibrary.org/library/herbert-read-existentialism-marxism-and-anarchism-1